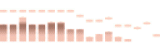Новое в блогах
«Каждый человек что-то хочет. Кажется, люди готовы все кругом под себя и свои желания переделать. Тот, кто посильнее, переделает много и непременно сделает плохо тому, кто послабее, чем и умножит его страдания».
Вот такой петух. А точнее – пол петуха. Но сначала хочу обратить ваше внимание на первую иллюстрацию: «Даника Драгош в костеле. Ангелы».
Картины Станислава Вецку не смотрели попусту в мир. Они, написанные на досках, складывались боковинами к центру и раскрывая их, посетитель уже как бы участвовал в действии: поскрипывал пол, слабо пахло ладаном, а пальчики маленького ангела, казалось, и в самом деле заставляют орган играть.
Писательница Мальвина Венцлова, делясь своим впечатлением от этой работы, написала статью в «Три коня культуры»:
«Сначала вспоминается костел (его чаще видишь, и дорога к нему поцокивает брусчаткой), потом ангелы: одни заснули на статуях, другие сидят на лавках и листают Евангелие, кто-то из детей пробует орган, и только в самом конце память подходит к Данике Драгош. Даника сидит, не замечая ангелов и ставит разнохвостые закорючки на бумаге – она пишет музыку, как обычно, только в костеле и только когда никого нет, кроме ангелов, конечно.
Орган немного кривится, доставая из металлической руки тот палец, который вечно забывает честный органист, тот палец, который Данике непременно нужно вставить.
- Чистое ля! – не выдержал кто-то из взрослых.
Ребенок дернулся, ушибаясь о свои бемоли. Костел распотрошился. Даника отвлеклась от бумаги и думая, что никто не видит, полезла карандашом в ухе поковыряться.
- Чистое ля... – сказала она. – Может быть, может быть.
Ребенка прогнали и за орган посадили серьезного ангела в очках, пускай он помогает. И то ли от чистой ля, то ли от забежавшего погреться вдохновения, – костел зазвучал, присоединились колокола, смотрительница зажгла свет и вскоре пошли люди».
Экскурсовод дождалась пока все, кто хотел, прочитали вырезку из «Три коня культуры», и продолжила:
Вторые пол петуха Станислава Вецку, касаются его уникальной методики работы со своим воображением.
«В самом деле, разница между проработанной фантазией и реальностью, компенсируется тем, что ум, и так, собственно, принимая все подлинным, умеет сотворить нечто воистину безупречное, лишенное тех досадных моментов, которыми так щедро рассыпается действительность. Да, я живу в воображении (Станислав Вецку выдерживает паузу, наблюдая за реакцией слушателей). Но работа с досками и фантазирование, это не зло, согласитесь. Мне не приходится подминать под себя чьи-то стремления и чью-то волю. Я не пложу боль и отчаяние».
Дом-музей Станислава Вецку, образованный после его смерти любящими родственниками так, в память, очень скоро стал одним из самых посещаемых музеев страны. Людям, измученным страданиями, неудачами, угасающей верой в не сбывающиеся чудеса, хотелось прикоснуться к чему-то простому и определенно настоящему. Этим местом был музей, раскрывающиеся триптихи на досках, и Даника Драгош на них.
Это «Трамвай. Камерный оркестр» – экскурсовод раскрыла работу – «Три коня культуры» отправили эту работу в большой мир, в том числе, благодаря писателю Казимиру Лишинскому. Вот, можете прочесть его заметку:
«Из этой паутины – липкой и всеядной – называемой памятью, легче всего достать красного снегиря трамвая. Почему? Он большой. О нем говорили пару раз. Да и вообще, если разобраться, то он без паутины никак, равно что и паутина без него: ненаселенная пауком (это всего лишь философское допущение), она скатывается в клубок ниток, которые котятами шевелятся в корзине Даники Драгош (она вяжет). А трамвай, по совместительству с паучьей сущностью, катит Данику из порта в центр.
У него, трамвая, своя легенда. У Даники своя. Нитки просто себе шевелятся. А ангелы в трамваях не водятся.
«Или водятся?», – подумала Даника.
Вправо смотреть было без толку, там гнались за ними запыхавшиеся кусты, вечнозеленые, но сердитые, и Даника повернулась влево:
- рыбак уткнулся удочками в потолок, спит вроде;
- на скамейках старушки слушают старичков и вот-вот начнут спорить;
- ребенок оттапливает ладошкой стекло, но не везде – кажется что-то пишет.
«Наверное, он и есть ангел», – Даника решила непременно посмотреть, что ребенок рисует.
- Эту сюда, – сказала одна из старушек, – вот так, пальчиком подержи.
Проснулся рыбак. И никакие оказались это не удочки – пульты нотные оказались. Он встал, следом зашевелились старушки со старичками. Трамвай подъехал к остановке и в открывшиеся двери спешно залетел колокольный звон.
Память очень хочет посадить Данику Драгош в костеле. И чтобы она слушала музыку, где тот самый мальчик, рисовавший на окне, поет Ave Maria, под аккомпанемент камерного оркестра старушек.
- И старичков? – улыбаясь, спросила память.
- Да, и старичков.
- Пусть будет так, – ответила она.
Память любит подробности. А сюжет легко можно менять. Сзади не торопясь двигалась еще одна группа. К воротам подъехал автобус. Кто-то курил на крыльце и слышались слова:
- Тут еще поспорить надо, кто живее: Даника Драгош, никогда не существовавшая, или те, кого мы привыкли видеть.
Что значит «помнить об этом», Даника не знала: «Нельзя ведь постоянно думать о вулканчике», – рассуждала она, когда вспоминала; а когда не вспоминала, то рассуждала совсем о другом. И все было так, пока ей не встретился шаман Вулкан-Чика, собиратель легенд и большой знаток древностей.
- Вулкан-Чика? – переспросила Даника.
- Чикан-Чикан-Ка-Вул! – обрадовался шаман.
Кто-то рассказывает, что Даника учила шаманский язык полгода, кто-то говорит, что все было наоборот – это неинтересно; зимой их уже видели вместе, они шли из парка и разговаривали не разобрать на каком языке, но смысл был таков:
- Во вселенной семнадцать нот, но в нашем мире звучит всего четырнадцать. Есть три тайные ноты. Мы их не знаем и потому никогда ничего не узнаем.
- А зачем так устроено? – Даника возмущенно остановилась.
- Чем больше нот, тем сложнее мир. Чтобы все понять, нужны все семнадцать. Но усложнение мира приводит к тому, что он становится неустойчивым. Одну ноту невозможно разрушить, а четырнадцать держатся друг за друга, как песчинки в домике из песка. Дует ветер, текут воды, песчинкам нужно держаться, но каждая хочет быть сама по себе и нарушает правила. Она отпускает и мир рушится.
Трамвай выехал из-за угла и поднял в воздух стаю воробьев у церкви. Старушка перекрестилась, а те, кто слушал, испугались. Очень страшно, когда кого-то слушаешь, а потом воробьи.
Даника с шаманом пошли дальше, и конец разговора остался в кармане у времени.
Спустя год Даника Драгош издает свою первую книгу, тонкую как прошлогодний сухарик, но с иллюстрациями Станислава Вецку. Посередине обложки, украшенное листьями папоротников, лежало название: «Ангел». Книгу купила только библиотека и не подумав разобраться, отправила ее в детский отдел, где и началась странная история: дети, с истовым упорством, стали рисовать одно и то же – ангелов, играющих на изогнутой флейте...
«... один конец ее в прошлом, второй в будущем – так прочитали в книге Даники Драгош, когда отобрали ее у детей – каждая нота ее пробуждает явление или силу, а ноты, взятые вместе, пробуждают мир».
На развороте улыбался счастливый Вулкан-Чика.
- Так... так-так-так, – сказал кто-то в очках.
За пару дней книгу раскупили и издательство осадили письмами про дополнительный тираж. У Вулкан-Чики брали интервью:
- Здравствуйте! – сказал шаман голосом Даники Драгош.
- Он ее съел? – испугались в толпе.
- Нет, она переводит.
На болтунов зашикали.
- Великий Дух не творил Мир, – рассказывал Вулкан-Чика, – Великий Дух сотворил семнадцать нот, из которых возникли... – Даника завозилась с переводом и оставила вариант попонятнее, – Ангелы. Мир творится постоянно, ничего устойчивого нет (шаман уже хотел крутиться, постукивал в бубен и ножками сучил), они... ох, как играют!
...
Мне кажется, что их сослали на острова в Полинезии – и Вулкан-Чику и Данику Драгош – пускай там себе танцуют. С бубном. И флейты эти... у нас все иначе устроено.
Врачи Ружу Цагаровну боятся и уважают, общаться с почитаемым преподавателем без крайней необходимости стесняются; голос дьявола звучит, не опошляясь физическими несовершенствами; Бакуринская голосу внемлет. Итог прост: опытные студенты в состоянии отличить Ружу-просто от Ружи-с-воплощением Януша Вулца, новички теряются, вплоть до участия докторов.
- Но все это схоластика и философия, – говорит правитель (так всегда величали ректора).
У него в кабинете нет рояля, есть арфа, а стены увешаны духовыми инструментами. Считается, что у правителя еще есть голая негритянка, но это просто догадки, которые никто не обсуждает всерьез.
- Студенты поют? – продолжает правитель. – Строят гармонические последовательности? Пишут диктант! – его слова наполняются агрессией, и чья-то мама, пришедшая спросить про Ружу Цагаровну, уже боится правителя, и диктанта боится, и жалеет о своей решимости. – Я вас, как-никак, спросил... – ректор проводит карандашом по струнам арфы, и та плачет. – Может быть мне спросить еще раз?
Маме хочется умолять отпустить карандаш, ее отпустить... оставить в покое арфу и пускай все будет так, как есть, хоть бы и с диктантом. Но рот не слушается, и она уходит молча, кланяясь и ища воздуха.
Зайти к чаду она тоже не решается, из-за двери полыхает адом, и черти визжат.
- О боже... – дышит она мерзлым воздухом на улице, радуясь, что преисподняя отпустила ее.
…
Сама пьеса, звучавшая из кабинета Ружи Цагаровны, была написана на доске, и я вам скажу, что стирать эту пьесу кощунственно. Увидев эту запись, студенты останавливаются и впадают в задумчивость, их приходится тормошить, напоминать кто они, где они... – то, что называется пространство-временным континуумом, теряет, во впечатленном студенческом уме, свою ориентационную функцию.
Представлялся Дюрер, расписывающий доску в негативе – мелом – но обретший в новой форме, ранее неведанное вдохновение.
Фреска, опиралась локтями, коленями, животом на нестрогие по точности нотные станы (по ним, видимые издалека, ползли монахи черные и правды алчущие). Станы рвались (вероятно под тяжестью греха, если не уходить от аллегорий), монахи падали, музыка кричала визгливыми кластерами, затушевавшими самое дно партитуры. Вверху зияла вечность, изображенная прозрачными и пролонгированными в никуда аккордами До мажора.
Ружа Цагаровна играла сидя, играла стоя, она пела... – в общем, пребывала в образе.
Студенты ничего не спрашивали. Они молча приходили, впечатлялись и уходили другими. В существование Януша Вулца (вероятно автора фрески и ее содержания) верили свято. И музыка для студентов становилась священнодействием, которым заниматься всуе грех.
пишет Хосе Ортега-и-Гассет, и продолжает:
«Когда кому-то не нравится произведение искусства, именно поскольку оно понятно, этот человек чувствует свое "превосходство" над ним, и тогда раздражению нет места. Но когда вещь не нравится потому, что не все понятно, человек ощущает себя униженным, начинает смутно подозревать свою несостоятельность, неполноценность, которую стремится компенсировать возмущенным, яростным самоутверждением перед лицом произведения».
И еще пару цитат, чтобы мы хоть как-то утвердились в мире его философских представлений:
«Жизнь лишь тогда неподдельна, когда все в ней вызвано насущной и непреложной потребностью»;
«Жить как раз означает чувствовать себя гибнущим, только признание этой правды приводит к себе самому, помогает обрести свою подлинность, выбраться на твердую почву».
И, наконец, то, ради чего я столь неоднократно процитировал испанского философа:
«Банальности – трамваи мышления».
Просто прелесть! Представляется городок, в моем случае небольшой, – навряд ли чей-нибудь ум толкается в метро мегаполиса. Движенье вверх-вниз, театр, библиотека... шучу – кондитерская, разумеется! И трамвай. Он идет от порта, через набережную и в центр, где летом прячется в каштанах, а зимой красуется снегирем, надолго останавливаясь у церкви, пока не съест всех молящихся на остановке.
Но это лирика. А суть заметки в том, что искусство противопоставляет себя большей части человечества.
Так было всегда. Вспомните кроманьонцев, высмеивающих неспящего ночью товарища, изображающего на стене ногатую зебру; экстраполируем процесс на сегодняшний день и что мы видим? – жалкую кучку общающихся с Богом Homo sapiens'ов, зарабатывающих кусок ногатой зебры чем угодно, кроме плодов своего общения. Да, соглашусь, бывают такие Мамонтовы, вытягивающие Врубелей из нищеты. Но это точечные попадания и вероятность того, что это произойдет с нами, означенными sapiens'ами, исчезающе мала.
И здесь возникает сложный, хотя и вполне закономерный вопрос: Зачем sapiens, забывая свои заповеди – есть; есть разнообразнее, больше и вкуснее; а наевшись скопировать себя в максимальном количестве потомков – вдруг бросает все и приступает к творчеству?
А потому, что творчество у этих sapiens'ов вызвано «насущной и непреложной потребностью», – как сегодня уже сказал Хосе Ортега-и-Гассет.
Потому же и человек, уходящий в горы молиться, живет безлюдно десятилетия. Как объяснить его поведение социологическими законами? – никак. Так же и творчество. Это странная потребность, это высокогорный мир холодного одиночества, это вечно присутствующее желание остаться в какой-то связи с окружением, с публикой; и это страшная опасность поддаться благосклонно аплодирующему магниту массовой культуры и потерять себя.
И что тогда остается? – есть; есть разнообразнее, больше и вкуснее; а наевшись скопировать себя в максимальном количестве потомков... – но горизонты-то уже другие!
Про это хорошо сказал профессор Сергей Вячеславович Савельев:
«Посмотрите на судьбы великих ученых, мыслителей, философов – мало у кого хорошо сложилась жизнь. Это объясняется тем, что мы, как обезьяны, продолжаем конкурировать. Если среди нас появляется доминантная особь, ее надо немедленно ликвидировать – она же угрожает каждому лично. А поскольку посредственностей больше, любой талант должен быть или изгнан, или просто уничтожен».
Мы смотрим на трамвай мышления, нам хочется попасть в его банальность, прогретую дыханием толпы. Но его двери не так широки, чтобы втиснуться нам с мольбертом. И мы идем пешком, провожая его и останавливаясь на морозце, увидев то, что немедленно надо запечатлеть, пока кто-нибудь нечаянно не раздавит.
Первый гусь, чистейшего русского происхождения, носил имя Иван; Иван Никитич, если вместе с отчеством. Фамилии не знаю, да и вообще, разве дают гусям фамилии?
Оказывается, дают. Еще как дают, достаточно посмотреть на второго гуся, чтобы убедиться в этом: Станислав Кароль Красноклювский – гордый, убеленный сединой сын Короны – таков он, второй гусь. Как видите, и фамилия, и даже второе имя присутствуют.
- Ты, братец, – говорит Станислав Кароль, – сер, нищ и наг. От сохи вчера только проснулся и замышляешь на мандолине играть. А совесть где? А понимание?
- Так это... Я-то что? Я ничего, – отвечал Иван Никитич.
Вместе они шлепали по дорожке и выглядели так: один белый, другой серый.
- О! Бабусины гуси нашлись! – кричали обрадованные дети.
И в сарай... и в сарай... побегаешь тут, когда за тобой гоняются с ивовым прутиком.
- Шалят детки-то, – заметил Иван Никитич; впрочем, вполне добродушно.
- За польских часов все было иначе, – обиделся Станислав Кароль, – гусю был почет! Говорили, что даже уланский полк, и тот не смел гуся обидеть.
- А куры что?
- А что куры... – прах! – Станислав Кароль, хоть и растерял все связи на птичьем дворе из-за своей высокомерности, прекращать пыжиться и не думал. – То ли мы! Мы, братец, Рим спасли. Ты не думай...
- Ага: серый, белый – все есть, – бабуся жевала пустой рот.
- Хлоп! – зажмурившись взвизгнула что есть мочи дверь сарая.
И сразу стало тихо. И темно.
…
- Наутро пойдем, – засыпая, шепнул Станислав Кароль, – бабуся в церковь, а мы...
- Во поле! – перебил Иван Никитич; в душе его звучала музыка широкая, просторная... – Во чисто полюшко! – сказал и клюнул носом, в самом буквальном смысле.
…
Утром, куры шептались:
- Пелагия на рынке была. Так там говорили, что татарин замерз. Синий-синий сделался. И давно это было, в незапамятные времена. А как замерз, так стал мерзлый по земле ходить, тепло воровать. Хитрый такой, только ночью ходит. К утру гляди – все окоченело.
- Дура ты! Где ж ему, татарину тому, ходить, коли мерзлый он!
- Сама дура. На то он и татарин. Кто ж их, татар, знает. Видишь, мороз?
- На то, матушки, другая причина есть, вполне научная. Крестьянин был один, Емельян Степанович. Баба евойная до того ему осточертела, что он сатане душу продал за то, что б тот ту бабу удавил. А баба не удавливалась, здоровая была. Так сатана ее во льду сковал.
- И что?
- Что-что! С тех пор зима.
Но Иван Никитич со Станиславом Каролевичем – а кто ж его станет не по-русски, двойным именем называть: был Кароль, стал Каролевич – так вот, пустую куриную болтовню они не слушали. Глянули за угол, увидали бабусю, крестящуюся на колокольный звон, и на утек: шлеп-шлеп лапами по колкому инею – четыре шажка быстро и два не спеша, чтоб лапу погреть.
- Ух, хорошо! – бодрился Иван Никитич.
- Бр-р-р, – мотал головой Станислав Каролевич.
Дойдя до поля согрелись. Важно шли, молчаливо и торжественно. Старались не думать про лес. Но лес как-то все приближался, приближался...
- Может не пойдем? – спросил Иван Никитич.
И Станислав Каролевич бы согласился, но тут сыграла кровь:
- Пойдем, – строго ответил он и первым вошел в лес.
https://www.youtube.com/watch?v=R1GwvPzzK1k
Gnomus
Гном что-то жевала, не разглядеть что – она бегала взад-вперед с невероятной быстротой, поднимая в воздух кучи жухлой листвы.
Сперва гуси и вовсе не поняли, что это гном. Воображение нарисовало лису, поймавшую несчастного собрата:
- Удушила... – трясясь от страха, выдохнул Иван Никитич.
- И за шею тянет... – Станислав Каролевич и без того белый, еще побелел.
Потом только разглядели бороду; красный колпак мелькнул в низкой крушине, да и не чавкает так сударушка-лиса, как бы вкусно ей не было, и не бегает аки оглашенная в момент приема пищи.
- Варвара, это ты?
Молчанье. Потом опять: туда-сюда – туда-сюда... неймется гному, не сидится на месте.
- Варвара! Прекрати шнырять. Что украла-то?
Расступилась крушина, в пояс гному поклонилась и появился в просвете он самый – гном Варвара. И гуси, хоть и привычные к гномьему виду, но сглотнули всей длинной шеей, гагакать начали.
- Чего разгагакались, красавцы? – рассмеялась гном; Ивана Никитича немедленно в обморок повело – зубы-то у гнома черные, как угольки, щеки пухлые, борода в штаны заправлена, а язык (это когда гном смеется – язык достается), язык изо рта все лезет и лезет... белку с ели сшиб, а только после назад в щеки вернулся – отсмеялась гном Варвара.
- От черти! – пожаловалась ушибленная белка. – Нету на вас, окаянных, управы! – и полезла потихоньку назад, потирая ушибленный бок.
- На рынке была. Кое-что и взяла, что плохо лежало, – гном Варвара говорила неспешно, с ленцой, как воры карманники и говорят, когда их уличить хотят. – А вы, братцы, чего тут ошиваетесь? К матушке-лисе, поди, в гости пожаловали?!
И снова хохот, и снова язык... – белка как даст стрекача, только пятки засверкали.
- Нам это... матушка-лиса совсем ни к чему! – заволновался Иван Никитич. – Мы идем к Бабушке-Яге вообще-то.
- Видишь ли, достопочтенная Варвара, – обстоятельно начал Станислав Каролевич, – в одной древней книге написано...
Гном Варвара внимательно наклонила к Станиславу Каролевичу ухо; запахло кислой капустой.
... - написано, – кривясь и морщась, продолжил гусь, – что жили-были два принца: Иоанн и брат его Станислав. Испили они водицы...
- Из козьего копытца? – участливо спросила гном.
... - да, из копытца. И превратились в гусей.
- Угу. Стало быть, вы те братцы и есть?
Гуси воодушевленно закивали головами.
«Вот глупые птицы... из копытца, значит, пьют всякую гадость, а после по лесу шляются, болваны!», – подумала гном, но вслух сказала иначе:
- Ладно, – сказала, – матушка-лиса давеча курочку взяли, так сказать, с поличным, – хихикнула, косясь на открытые гусиные клювы, – и теперича отдыхают в норе. Но я, на всякий случай, вас провожу. Только через рынок пойдем, идет?
- Идет! – вместе ответили Иван Никитич и Станислав Каролевич. Это ж милое дело по лесу с гномом идти – ничего не страшно.
Тихо-тихо вдалеке послышалось: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох – они успокаивают меня», – то бабуся из церкви шла той же тропинкой и пела псалмы, дабы отвадить силу нечистую.
Гуси вздрогнули и мигом в крушину прыгнули. Все – нет гусей, словно никогда и не было.
https://www.youtube.com/watch?v=PMOtLQeIVmM
Il vecchio castello
Чем глубже шли в лес, тем старше становились деревья.
- Дерево с возрастом теряет голос, – объясняла гном Варвара. – Приходят мыши – дивный люд – и проедают деревьям корни изнутри; деревья терпят. Потом сажают камертон-сверчка и заставляют его петь, пока карликовые древесные тролли не прорежут певчие дыры в трубах корней; деревья терпят...
Дубок-озорок
Подогнул корешок
И гусь-дурачок
Полете-е-е-л в волглый лог!
- Станислав Каролевич... братец любезный... что ты так-то... – перепугался Иван Никитич; нагнулся было посмотреть и кубарем туда же полетел.
В папоротниках завозились гуси, закряхтели. Только и видно сверху, как в заиндевелой желтизне два пятна мечутся: одно белое (злится и сквернословием грешит), другое серое (причитает как баба). Гном Варвара хотела было посмеяться над глупыми птицами, но не посмеялась, напротив, сделалась серьезной, прислушалась к чему-то с самым уважительным вниманием.
- Так, – сказала негромко, – вылезайте оба. Кажись, не туда мы забрели.
- Пых-пых-пых...
- Молчать! – коротко приказала гном.
Гуси рты захлопнули, а глаза, напротив, вылупили.
Издали, словно виляя лесными тропами, приближался смутный напев, тусклый как фреска, и как фреска древний. Ближе-ближе... тут уже и Варвара дернулась, когда вяз зашевелился – вытянул, осыпающийся землей корень, согнул со скрипом, сунул в рот и задудел в лад поющему лесу.
Завороженные путники потеряли время (его легко потерять, оно живет только нашим к нему вниманием) и очнулись оттого, что забияка-луна, своими холодными пальцами полезла щекотаться.
- Апчхи! – заявил Станислав Каролевич.
- Апчхи! – поддержал Иван Никитич.
А про то, как гном Варвара чихнул, это вы у белки спросите; я еще таких ошалелых белок не видал.
…
Любопытная сорока нельзя сказать, что все слышала, так – кое-что, но для впечатления достаточно. А если еще прибавить выдумку и вкуснейшие подробности, то можно вообразить, с каким вниманием слушали сороку звери.
Тень-тень – тень-тень
Потетень – потетень...
... два гуся, значится, – царь-царевич и король-королевич, и с ними гном, Варварою наречен. Идут-идут, деревья, значится, дудют-дудют...
Сели звери под плетень,
Похвалялися весь день!
- Ты, мать, к делу поближе, – попросил медведь (он, пользуясь привилегией, сидел на кресле из живого кабана).
- Ага, – согласился кабан (оно-то и почетно вроде как, но долго, поди, не устоишь под медвежьим задом).
... короче, – защелкала сорока, – деревья их к самому замку и вывели. А ночка-то лунная, морозная, из-за ветвей всякое разное выглядывает...
- От, ежа тебе под оба крыла! Что королевна сказала?
... ох, батюшка... ругаться-то вы горазды по самым душещипательным выражениям! Королевна, как допела до конца и луну притушила, сказала так:
«Который из вас, честных молодцев, первым в принца оборотится и придет ко мне на поклон, будем жениться».
- Не могла... Нет-нет – не могла так сказать королевна! – зашумели звери.
- Курица ты, а не сорока, – осклабился медведь, – не жениться положено королевне, а замуж выходить. Деревня.
- Поди сам сходи, да послушай! – сдерзила белобока, и на ель – подальше от зверя лютого.
…
«Вижу в воде, в воздухе слышу, в небе читаю, что настанет ваш час. Но не задаром. Многое вам, братцы гуси, предстоит преодолеть в пути. Мужайтесь», – вот так, слово в слово сказала королевна.
https://www.youtube.com/watch?v=zKfUR1EM2mE
Tuileries
Исписавши осень-обманщицу: рыжеволосую шаловливую девчонку, вдруг сделавшуюся старухой злой и скверной, с бесконечным дождем и болотом на дорогах, старухой гневливой ветром и чумазой лицом, метущей грязным подолом раскисшую землю, Аристарх Ефимович – живописец и поэт – принялся за зиму.
Он отпустил бороду, обзавелся шапкой, рукавицами, полушубком и беспородной псиной, добродушной и забавной. Жил Аристарх Ефимович сам, занимая комнату в доме помещицы Липовкиной (не умной и до искусства не охочей) с коей, ввиду означенных характеристик, общение имел скудное и не по существу. По существу же живописец общался с Модестом – так он звал своего пса. Пес откликался, вилял хвостом, а бывало, и на задних лапах хаживал, выражая тем самым стремление быть прямоходящим, подобно хозяину.
На пленэрах пес-Модест обычно спал, но стоило пойти снегу, он потерял покой и сделался нервным:
- Аф-аф-ау-у-у! – излагал он свои тревоги, вытянувшись стрункой, нацеленной в сказочную тишину заснеженного леса.
И на бумагу, под ловкими пальцами Аристарха Ефимовича, прыгнул весельчак заяц, забавляющийся в белой пороше. После лось, и все забелело пушистыми кучами – сохатый в ель с разгону вошел и обрушил щекотную лавину. И не сразу разглядишь двух гусей... услыхать, и то проще – гогочут-хохочут братцы гуси, клювы в снегу повываляв; гнома Варвару в сугроб уронили, крыльями замахали-замахали, снежную бурю надули и галдят заполошные, на пол-леса слышно. Искорками белки шныряют...
... - Эх! – сетует Аристарх Ефимович. – Тут бы краски. Что уголь...
- Аф-аф-ау-у-у! – кивает Модест; яму вон какую вырыл, так его буйство одолевает!
И побежали домой, все бросив. Схватили краски, отдышались минутку и назад. Но увы... – никого уж нет! И бумага чистая, словно ничего и не было. Все белоснежным ластиком вычищено.
Стоит Аристарх Ефимович в величайшем огорчении.
...
А гуси где? Так дальше пошли. Что им до живописи. Чай не портретам позировать выбрались.
- Ух! Хорошо! – поскрипывает лаптями гном Варвара.
- Хорошо-хорошо! – перебивая друг друга, соглашаются гуси.
...
- Ну что ж, не вышло картины, выйдут стихи.
Аристарх Ефимович укусил карандаш и через полчаса вдумчивого хождения по комнате, произвел на свет стихотворение:
Снег... у снега в плену каждый зверь –
он раб,
раб игры, где рисуется карта оттисков
лап.
И нельзя не играть: наступив, ты оставишь
след,
те по следу пойдут, кому ты передал
привет.
Снег... когда снег, то пишутся буквы
как встарь,
когда не было алфавита и еще не изобрели
букварь.
Буква-медведь, буква-лось, заяц-
буква,
а между буквами, ярко-красным апострофом
клюква.
https://www.youtube.com/watch?v=KZWCAnYS_zU
Bydło
- Ты жив, Станислав Каролевич? – спросил Иван Никитич.
- Мертв, – ответил тот и незамедлительно умер.
- Эх... – только и сумел крякнуть Иван Никитич, вслед за ним отдавая Богу душу.
Вьюга кончилась, не успев до конца замести двух гусей – белого и серого – так и остались они лежать у обочины, двумя еле различимыми кучками.
…
Тяжко и увесисто хрустел свежий снег на промерзшей дороге. Мерно катилась большеколесая телега, шумно дышали волы, а солома...? – солома время от времени вываливалась с телеги, оставляя на земле пунктир желтых отметин, словно боялась потерять дорогу домой.
Самуэль Гольденберг думал неспешно: «Если отец отправляет меня на рынок и дает в придачу Шмуйле, значит двенадцать лет, – это тот возраст, когда к слову человека будут прислушиваться со всем вниманием. А какое может быть внимание, когда человек тараторит? Тара-тара – тору-тору...», – он не заметил, что начал говорить вслух.
- Я все расскажу ребе! – Шмуйле наставительно погрозил мизинчиком. – Тора – это не таратора, даже если ты сын мясника. Разве что ты дашь мне назад мою книжку, обманщик.
Волы думали о своем: «Сено-сарай... сено-сарай... сено-сарай... – правая нога – сено, левая – сарай: никогда не собьешься со счету, – но мороз проклятущий! Что они там шепчутся в телеге?».
- Ну-ко, Лопа, обернись, – попросил Попа.
Лопа послушно обернулся и получил хлыстом.
Молча пошли дальше. Того что слева звали Попа и оборачиваться он не мог, болела шея; когда надо было, оборачивался правый – Лопа – и получал хлыстом: раз и навсегда установленный порядок.
- Предложение, не лишенное своей выгоды, – подумав, ответил Самуэль Гольденберг, используя выражение, заученное перед поездкой на рынок. – Я отдам тебе книгу, ты забудешь свои фантазии за пять минут, и будешь читать вслух?
«Никогда ничего не отдавай не торгуясь – говорил отец – люди уважают тех, кто ценит товар высоко; дорогой товар – хороший товар: дело только в цене, человеку приятно купить дорого».
Шмуйле чувствовал себя в выигрыше и согласился незамедлительно. Однако, что-то шевельнулось у него в уме и почти уже взяв книгу из рук Самуэля Гольденберга, он спросил:
- Ну ведь ты же, конечно, дашь мне подержать поводья, когда я прочту первую главу?
- Две, – ответил Самуэль Гольденберг.
- Полторы.
Телега подпрыгнула на кочке и кособоко вильнула; Лопа, опять обернувшись, смотрел на мальчиков немигающим взглядом, силился понять, о чем там речь.
Самуэль Гольденберг замахнулся кнутом, но не ударил, – увидел что-то странное на краю дороги. Натянул поводья, и телега остановилась.
- Шмуйле, слезь, пожалуйста, и посмотри что-там лежит у обочины.
- Да-да-да! – кривляясь, ответил Шмуйле. – Я полезу на обочину и пока будет выстуживаться моя солома, Самуэль Гольденберг посидит наверху как царь Давид?
Ладно, полезли вместе. Сперва палкой тыкнули (палка уперлась в мягкое), после уже разгребли рукавицами снег и ахнули!
- Гуси! – ахнул Самуэль Гольденберг.
- Гуси... эхом повторил Шмуйле.
- Так-так-так... мы везем яйца, верно? Верно. Вопрос простой как дважды два! Яйца и доход с яиц отцу, а гуси и доход с гусей кому?
- Нам! – ни секундочки не раздумывал сообразительный Шмуйле.
Вкинули гусей в телегу, соломой прикрыли и дальше поехали в молчаливом предвкушении:
- Самуэль Гольденберг представлял себе сундучок, доверху набитый золотыми монетами.
- Шмуйле, по наивности душевной, на горизонте мечтаний видел конфеты и пряники; ну, может еще и на карусель хватит...
- волы были попроще: сено-сарай – сено-сарай.
https://www.youtube.com/watch?v=ANkip8fVskc
Балет невылупившихся птенцов
- Ты жив, Станислав Каролевич? – не открывая глаз, спросил Иван Никитич.
- Жив, – ответил Станислав Каролевич, воскресая.
- Шубур-шубур-шу... – монотонно бубнила солома, двигаясь в телеге всем телом, грея гусей, грея Самуэля Гольденберга и Шмуйле, всех без разбору грея и томясь от переполняющей ее любвеобильности в те редкие моменты, когда греть было некого.
Очухавшись, гуси поискали гнома Варвару. Не нашли и не особенно огорчившись, опять заснули, чувствуя слабость от недавней кончины.
…
Кто ни разу не видел, как вылупливаются гномы из куриных яиц, не поверит мне и будет смеяться:
- Ой, я вас умоляю... в куриных яйцах не водится никого кроме кур! – Самуэль Гольденберг крутит раскрытыми ладошками, словно уши остужает. – Вам бы рассказывать свои сказки в тех местах, где слушают всякие глупости; мне подсказать дорожку или найдете сами? Шмуйле, покажи дяде, где теперь живет тетя Клара, разговаривающая с горшками и ведрами.
- Хи-хи... – смеется Шмуйле.
- Я живу уже совсем не первый год, – продолжает Самуэль Гольденберг, – и не задумываясь вижу, что вы хотите ехать на телеге и не хотите идти пешком. Почему, спрошу я вас, не пряча проблему в дальний карман, вы начинаете разговор настолько издалека, что нельзя разглядеть темы?
- Ц-ц-ц... – цокает Шмуйле; речь Самуэля Гольденберга ласкает Шмуйлин слух.
- Другое дело, если вы умеете играть на виолончели... вы умете играть на виолончели? – казалось, что в Самуэля Гольденберга неожиданно вселился какой-то бес: он заставлял его свернуть с темы тети Клары и перейти совсем в ни туда. – Я спрашиваю вас простой вопрос... – с усилием ворочая языком, продолжает Самуэль Гольденберг, – и удивляюсь, что ответ не лежит передо мной...
- Да, я умею играть на виолончели, – ответил я.
И тут мы все в первый раз услышали эти странные звуки: «смычок возится на струнах, или скрипка трется о смычок?», – хорошо было бы подумать над этой загадкой, но звуки повторились... и опять повторились.
…
- Иван Никитич! – строго сказал Станислав Каролевич. – Мне кажется, что вы по неосторожности высидели яйца!
Иван Никитич отпрянул, будто на картошке горячей очутился. Яйца и вправду вели себя странно – они дергались, прыгали и время от времени грозили всему миру крошечными кулачками, показывающимися из пробитых в скорлупе дыр.
И тут началось.
Во-первых, появился гном Варвара, оказывается никуда не подевавшийся, а все время таившийся в сене. Варвара колдовала так:
- водила руками из стороны в сторону, причем воздух вокруг рук делался горячий и парный;
- что-то шептала дикое и невнятное;
- смотрела глазами сразу в четыре стороны (как, не понятно, но факт есть факт: смотрела).
Во-вторых, на телеге творилась явная чертовщина:
- Самуэль Гольденберг непослушными руками достал из футляра скрипку и тут же завел прегадостную мелодийку, с какими-то подскоками и дразнящими ужимками;
- Шмуйле, догоняя, вторил ему на альте, продолжая хихикать, что выглядело вдвойне неприятно из-за полного отсутствия смычка – Шмуйле обходился одним пальцем: «пиц-пиц-пиц-пици-като-като-като-като», – звучало у него;
- не знаю, зачем понадобился я, – мои короткие реплики на виолончели пытались вписаться в эту вакханалию, но вписывались с трудом;
- а из корзины, разбивая до конца скорлупу, полезли мятые карлики гномов; каждому, стоило ему появиться на свет, Варвара мигом надевала на голову крошечный красный колпачок, и гном – голый, сморщенный, единственно в колпачок одетый – бесновался в сене, то ли пытаясь вырасти, то ли выплясывая некий гномий танец, положенный при рождении.
Гуси – Иван Никитич и Станислав Каролевич – с телеги сбежали в ужасе; прибились к волам, и теперь спрашивали их тихонько:
- Это что ж такое творится-то, братцы?! – спрашивал Иван Никитич.
- Бардак! Бардак и дремучее варварство! Всегда у вас так? – вытянув шею негодовал Станислав Каролевич, стараясь говорить негромко, но с артистическими придыханиями.
А волы что? Волы молчали. Им это все вообще мимо: кнут – иди, нет кнута – стой. Все просто.
https://www.youtube.com/watch?v=m1HPBDQvLNA
Samuel Goldenberg und Schmuÿle
Прозорливый Иероним Босх уже это изображал: едет телега, в ней гуси – Иван Никитич и Станислав Каролевич (ну, хорошо, пусть чудовище с дудкой и сова – прозорливость имеет свои границы), гном Варвара, Самуэль Гольденберг со Шмуйлей и ваш покорный слуга (да не смотрите вы картинку... поверьте на слово); во главе процессии два вола – Лопа и Попа. Про рыб двуногих и прочую гадость Босх от скуки навыдумывал, и ни в какую преисподнюю все это не движется; на рынок едем, в Лиможск: евреи гусей продавать, гуси продаваться, Варварино ремесло всем известно – тибрить, а я за компанию, так сказать, процессиальным летописцем (пускай такое существует, не убудет ни с языка, ни со всеядных ведомственных реестров: процессиальный летописец – печать, роспись и скудное жалованье).
И кого, спрашивается, не хватает? Того, кого не хватает, Самуэль Гольденберг и Шмуйле начали бояться еще дома, когда отец говорил:
- Упаси Господь вам цыгана встретить!
И оба они трепетали. Ночами вскакивали с криком, как приснится им цыган вороватый, злой, с зубом золотым и в шапке лихо заломленной... – ой-вей!
Так оно и вышло: и зуб золотой на месте, и взгляд вороватый, и шапка заломлена. Только до сапогов фантазия не дотянулась – сапоги у цыгана были черные-черные, до блеску натертые дегтем и скрипу большого-пребольшого!
- Вол хрипит, а гусь гогочет, жид на рынок ехать хочет, – сходу заявил цыган и осклабился – зубом хвастанул.
Все промолчали и больше не оттого, что сказать нечего, а со страху.
- Гусь гогочет, вол хрипит, едет на телеге жид, – цыган немного перефразировал мысль и приподнялся на носочки: во-первых, посмотреть, что там в телеге, а во-вторых, большой сапожный скрип продемонстрировать.
Самуэль Гольденберг от переживаний потерял всю память... что-то отец говорил насчет цыгана, но кроме ужасного зуба из ночных кошмаров, ничего не припоминалось.
Два жида в телеге едут и везут гусей: ой-вей – ой-вей! – обрадовался цыган, увидав Ивана Никитича и Станислава Каролевича; им тоже зуб показал, чтоб знали с кем имеют дело.
«Да! – вспомнил Самуэль Гольденберг – цыгана словом не переговорить, наставлял отец: как встретишь его, доставай скрипку – цыгане до музыки повадливые».
Он толкнул локтем брата и показал глазами на футляр.
Цыган тем временем цыкал зубом и уже тянул лапищи, гусей пощупать.
То ли со страху, то ли отдавая отчет ситуации, мальчики заиграли так, как другой раз называют «кучеряво» – высоко-высоко, жалобно-жалобно... словно музыку в парикмахерской бигудями завили.
- Жид достанет свою скрипку, обдерет тебя как липку... – задумчиво сказал цыган; впрочем, руку остановил, не долез до гусей.
Достал из-за пазухи кларнет, продул холодный мундштук и вступил прямо поперек еврейских кучерявостей.
Тут уже и другие повозки стали догонять – много кто на рынок ехал. И давай люди всем народом с цыганско-еврейской склоки наслаждаться: «Давай! Давай! Обыграй его, Мойша! – кричат; а другие иначе – Ну-ко, Соломон, свали Будулая, хорош ему людей обкрадывать!».
- Раз карман, два карман, сумку расстегай-ко... Мойша-Мойша, ты болван – трям-тумбалалайка! – обиделся цыган и так зарычал в свой кларнет, что вороны с деревьев снялись.
Народ хохочет, цыгана поддразнивает, а мужики уж рукава закатывают – отлупить проныру; но тот ничего кругом себя не видит.
- Пейсами играет жид, он весь рынок рассмешит! – орет Будулай, размахивая кларнетом и приплясывая.
Но толку-то что? А ровным счетом ничего – народу вон сколько собралось! Теперь не то что телегу ограбить, теперь и живым попробуй уйти...
Как цыган опомнился, уже поздно было. Побили бедолагу, в снегу вываляли и прогнали прочь. А шапку свою, лихо заломленную, цыган потерял в суматохе.
Прав был отец про музыку, ой как прав!
https://www.youtube.com/watch?v=HIDspYuM_SA
Limoges. Le marché
Весь мир театр, да Уильям? – «...выходы, уходы, и каждый не одну играет роль». Да ничего подобного, удивляюсь, как тебе поверили! Весь мир – это рынок в Лиможске. Посмотри сам: актеры твои торгуют талантом, за талант получают деньги, а за деньги...
- Шалом, мальчики! – засмеялись актеры и показали гусям зловещую пантомиму, изображающую поедание жареных гусей голодными актерами.
- Станислав Каролевич... – озабоченно шепнул Иван Никитич, – это они не про нас ведь?
- Вынужден вас огорчить, мой друг, – Станислав Каролевич схватил самого наглого актеришку за палец и тот взвизгнул.
... за деньги можно купить все, Уильям, – и гусей, и любовь; в нем женщины, мужчины – все купцы, и каждый подороже хочет продать товар.
Сперва на грядках сердца
Иль души, растят плоды
Умений, знаний, красоты.
А после, в роли продавца,
За деньги отдают свои труды.
…
Но не тут-то было! Не на тех, как говорится, напали господа актеришки. Станислав Каролевич, цапнув палец, рассудил с безупречной точностью: «дальше будет хуже», – рассудил он и давай улепетывать. С телеги на землю, с земли на прилавки, с прилавков еще черт знает куда... еле-еле Иван Никитич за ним поспевал.
А крику-то! Визгу-то! Улюлюканья! Утомился рынок торговать. Людям, как известно, требуются зрелища, каковые, со всей любезностью, им были организованны двумя беглыми гусями – серым и белым.
- Ох, батюшки! – запричитала бабуся (откуда она взялась на рынке, одному Богу известно). – Мои-мои гуси! Люди добрые!
А что люди добрые? Уильям, я тебя спрашиваю. Наложить бы на тебя не только грим, за твои театральные рассуждения, но и епитимию наложить – отправить на рынок чистильщиком обуви, покуда не войдешь в ум.
- Держу-у-у! – заорал чистильщик обуви самым благим матом. – У-у-у... – продолжал он, укушенный Иваном Никитичем за нос. Не удержал, само собой. А за старание благодарности не бывает, посему, был сей персонаж осмеян и сию же минуту предан забвению, ибо гуси уже крутились на карусели.
- Как на карусели! Гуси? – удивлялись те, кто не видел.
- Они самые! – размахивая руками, рассказывали те, кто видел. – Шмуйле еще был. Так он, не понять: то ли кататься забесплатно устроился, то ли гуся ловил... короче, и смех и грех.
Бабуся бежит, люди бегут... – бардак-кавардак, чем и воспользовалась одна малопримечательная на внешний вид старушка.
- Так... да! – в платочке красном была, – вспоминал кто-то и очень волновался, вспоминая.
- Какой платочек?! (первый, услышав замечание, дернулся как вор, с поличным пойманный) В пальте бабка-то была, в пальте.
Околоточный все аккуратно записывал.
- Вы их не слушайте, господин полицейский, – отозвался третий, – брешут они. Ничего они ровным счетом не видели. Я видел. Меня спросите.
- Ну-с, голубчик, – околоточный повернулся к третьему, – слушаю.
- Я ту бабку сразу признал. Яга это была. Баба-Яга.
- От господи боже мой! – плюнул околоточный, осерчав; пошел с хозяевами-евреями переговорить: «Поди там без мистицизма управимся», – подумал.
А тем временем Баба-Яга действовала следующим образом: платочек и пальто скинула, за угол шмыгнула и спешно напялила невесть откуда взявшиеся тулуп и картуз – чуть-чуть осталось глаза отвести и ямщик-ямщиком по рынку идет – никакого сомнения. Ну тащит в заплечном мешке что-то... и пускай тащит, законом не возбраняется мешок тащить. А то, что мешок шевелится и гагакает, так мы уже упоминали про «глаза отвести»; Бабе-Яге это раз плюнуть-другой плюнуть – все, полный зрительный мрак!
https://www.youtube.com/watch?v=7aaHqxZ3pSo
Catacombae. Cum mortuis
Невидимые кукольники свернули кулисы неба и открылась черная сцена театра.
«Ночь Рождества» – высветили звезды...
... и потянулись-потянулись невидимые ниточки, заставляющие созвездия двигаться: вот, по колено в снегу идут волхвы, навстречу мерцающему огоньку звезды Anser. Оглядывается на них хищная Vulpecula, клацает холодными зубами. А вот и Баба-Яга – семнадцать звезд, из которых семь – мешок с двумя гусями.
...
Она поначалу шептала неразборчиво, потом приноровилась и к шагу быстрому, и к мешку, стала говорить вполне понятно. Гуси – Станислав Каролевич да Иван Никитич, укачавшись за плечом у Яги, полусонно слушали:
- Ты закрываешь глаза с облегчением, что все кончилось. А открываешь с другой стороны мира. И оттуда мир совсем не таков. Солнце там словно притушили – тряпку грязную накинули. И выползает наружу вся скверна и гадость людская. Смотришь оттуда – страшно! – ходят привидения без лиц, с дырами в груди и злые-презлые... Каждый себе на уме. А ум-то как ножичек наточен – себе кусок пользы из каждого вокруг вырезать. И режут-режут друг друга, улыбаясь и прикрывая свои замыслы то вышитым платочком милостыни, то рваной хламидой нищеты, то еще чем – горазды хитрецы на выдумку! Один жалеется, что его Бог обидел, другой, что сирота он безродная, и ждет, чтобы вовремя ножичком резануть и отхватить живой человеченки. Потому и страшные все такие, калеченные.
Гуси завздыхали. И цыгана золотозубого припомнили и лицедеев давешних. Все вроде сходится. Права Баба-Яга, есть ей вера.
- Тот мир, – продолжала Яга, – навроде катакомб со стенами толстого мутного стекла. В самой катакомбе пусто – мало кому охота там надолго оставаться. А сквозь стены, прежняя, оставленная жизнь светится. Смотришь в стекло и видишь мертвечину смрадную... тут еще поразмыслить можно, кто кого мертвее. Мертвость, думаю, – это состояние души, а не тела. Вот так. Ходила я, принцы мои, бродила по той катакомбе, диву дивилась на то, как раньше ничего не знала, не понимала. А потом, на берегу тамошней реки, повстречала лодочника. Старый человек... точнее, дух, конечно же. С ним-то мы, поди, лет сто проговорили и о том и о сем. Это он меня убедил вернуться и понемногу людям поведать, что тут на самом деле происходит.
Иван Никитич от неудобства сидения в мешке кромешно задеревенел всеми конечностями. Двинулся неловко и придавил Станислава Каролевича. Начался за плечами у Яги переполох, и покуда она мешком тихонько об землю не стукнула в воспитательных целях, гуси не унимались. А как стукнула, то те сразу поумнели – устроились как-то и давай дальше слушать:
- А лодочник говорил так: «Знаешь старые сказки? – говорил – Вот-вот, то были времена, когда люди жили настоящую жизнь. А после – говорил – после прилетел из-за тридевять земель Змей-Горыныч – так его в народе прозвали, а всамделишно никто и не знает, что это за зверь был. Сжег он всех и вся своим полымем. И все-и вся тут же очутились у лодочника в лодке, значится. С тех самых пор – говорит – настоящей жизни в нас ни на грош – в лодке мы плывем, от прежнего бытия к новому». Так-то вот, братцы-принцы.
Гуси засоглашались, головами закивали. Но тихонько, чтобы не быть вновь о землю тюкнутыми.
- А мне лодочник вот что сказал: «Ты – сказал – теперь всю правду знаешь и ступай назад, из катакомбы в мир жить. Будешь – сказал – Баба-Яга. А оттого, что мертва была, прозовут тебя "Костяная нога". Но ты смирись. Гусей вот – сказал – найдешь, сразу мне неси, потому как нисколько это не гуси, а напротив – принцы в гусиной шкуре. Мы их назад обернем и все наладится». Ну... собственно, и весь сказ.
…
И музыка играет; только так – полупрозрачно и торжественно – не иначе может звучать небо. Vulpecula кидается на волхвов, и те бьются с ней сверкающими клинками, оставляя в глубине веков символы, читаемые звездочетами. «Звезды настолько вечные, насколько мы можем представить себе вечность – это их, звездочетов, слова – а вечность не вмешивается в движение, ей не нужны непоколебимые величины победителей».
Так будет всегда: звезда Anser, волхвы, Vulpecula и ожидание чуда. И каждый год мы опять создаем его усилием веры, и кто знает, может однажды кончится вечность и чудо распахнется над нами новым небом – близким и справедливым.
И мир забудет ложь,
как будто руки
теперь важней, чем нож,
чья острота царила в мыслях
тысячелетья. Остались муки
памяти, но в памяти нет смысла.
https://www.youtube.com/watch?v=vKUg_5T0fwk&list=PL02Qx08mTLN32dhCfjAHxCYQ_276oPi-f&index=9
Избушка на курьих ножках. Богатырские ворота
Раскрывая цветастую книгу сказок, переворачивая одну за другой много раз уже читанные страницы мы ненадолго сами становимся главными героями – гусями Иваном Никитичем и Станиславом Каролевичем. И странное дело, зная финал, все время закрадывается мысль, что может случиться иначе. Не появится гном Варвара, или не вспомнят мальчики Самуэль Гольденберг и Шмуйле, что злого цыгана можно скрипкой отвлечь, или не случится на рынке Бабы-Яги... как бы тогда повернулись события?
Но книги пишутся раз и навсегда, повторяя вечный закон природы. И истинным мудрецом бывает только тот, кто это знает.
Они шли и шли (качающийся темный лес смотрит с иллюстраций), и ночные звуки огрызались таким ужасом, что никто, даже самый храбрый богатырь, не взялся бы преследовать их.
В избушке на курьей ножке горела лучина. Под ней стояла пришвартованной лодка, пахло речной тиной и улитками. Лодочник пил чай. Пил уже долго, кажись, не раз ходил в колодец воды набрать. Увидев Бабу-Ягу, он отставил кружку, встал и сказал:
- Что ж ты, мать-нога-костяная-голова, братцев гусей взаперти держишь? А ну-ко доставай.
Выпотрошили мешок, выпали гуси колошмятицей и давай по сторонам смотреть – рты разули, мигают и шушукаются.
- Они, – сказал лодочник, – все будет как всегда, давай мать, грузим их в лодку.
...
В мире важных событий не много. И не каждому человеку в вечной суете его, доведется до такого дожить, своими глазами увидеть и, возможно, переродиться во что-то большее. Все остальное так – бесчисленные горошинки нот, вокруг одной простой и совершенной мелодии.
Но чудеса здесь есть,
И волшебству есть место.
Лодочник взмахнул веслом, и лодка одним быстрым движением взмыла в небо. Наступило утро, прошел день и к вечеру в небе появилась звезда, которую увидели лишь те, кто любит звезды.
…
Легенды рождаются в полном одиночестве, в дремучей лесной чаще, где не с кем поговорить, где некому поведать об увиденном – о том, что так поразило воображение, изворачивающееся от пугающей реальности, словно змей и заменяющее все причудливыми изгибами мифа.
А история? История все одна и та же – других не бывает – все они про то, как тяжело и страшно куда-то идти; про то, какие неодолимые опасности встречаются в этом странствии; и о том, как в самый тяжелый момент – момент полнейшей безысходности – вдруг приходит помощь и пробуждаются ранее спрятанные в неизведанной до того глубине силы.
Но знает, и всегда знала страшная Vulpecula, что не будет так, как она затеяла. И хоть бы вся нечисть лесная ревела, надрываясь от ненависти, кидая во все стороны аккорды злые, острые. И пускай стучат они в барабаны и рвут скрипкам кости – беснуется Vulpecula, шерсть дыбом, лапы в стороны – тянут, дикие в неистовстве своем виолончели, объеденные в бесновании лапы – кости одни остались – по жилам своим, орут натужно... кашляют трубы, хохочут контрабасы...
Нет.
Отступятся бесы. Запрячутся в болото. Дадут дорогу идущему.
Вот и небо очистилось. Взгляни, видишь звезду Anser? И кружит-кружит вокруг нее хоровод притаившихся ворогов.
- Сейчас, сейчас, братцы гуси, – говорит Баба-Яга, – потерпите еще немного; а у самой ноги подгибаются и сил на один шаг.
А вороги за свое – нельзя им пропустить гусей, никак нельзя! Взвыли, дернулись и давай скакать, но уже не пугая – не помогло устрашение – прямо на них, пастями зубастыми.
Вечность идти, не сбивая шаг
нельзя. Между шагами мрак,
чернота, запустенье... – так
говорят
те, чьи телеги, ноги, иль корабли
были на той стороне, или
почти дошли, не сумев оторвать от земли
вес пят.
Вечность желает, как труп застыть,
чтобы время крутилось вокруг, и жить
без движенья – стоять, а не плыть
в реке,
которая нас подхватывает и несет.
И в этой реке для людей все течет:
верность, любовь и прощенье блеснет
вдалеке.
https://www.youtube.com/watch?v=KNdOMcbuiiA&list=PL02Qx08mTLN32dhCfjAHxCYQ_276oPi-f&index=13
Раскрывая цветастую книгу сказок, переворачивая одну за другой много раз уже читанные страницы мы ненадолго сами становимся главными героями – гусями Иваном Никитичем и Станиславом Каролевичем. И странное дело, зная финал, все время закрадывается мысль, что может случиться иначе. Не появится гном Варвара, или не вспомнят мальчики Самуэль Гольденберг и Шмуйле, что злого цыгана можно скрипкой отвлечь, или не случится на рынке Бабы-Яги... как бы тогда повернулись события?
Но книги пишутся раз и навсегда, повторяя вечный закон природы. И истинным мудрецом бывает только тот, кто это знает.
Они шли и шли (качающийся темный лес смотрит с иллюстраций), и ночные звуки огрызались таким ужасом, что никто, даже самый храбрый богатырь, не взялся бы преследовать их.
В избушке на курьей ножке горела лучина. Под ней стояла пришвартованной лодка, пахло речной тиной и улитками. Лодочник пил чай. Пил уже долго, кажись, не раз ходил в колодец воды набрать. Увидев Бабу-Ягу, он отставил кружку, встал и сказал:
- Что ж ты, мать-нога-костяная-голова, братцев гусей взаперти держишь? А ну-ко доставай.
Выпотрошили мешок, выпали гуси колошмятицей и давай по сторонам смотреть – рты разули, мигают и шушукаются.
- Они, – сказал лодочник, – все будет как всегда, давай мать, грузим их в лодку.
...
В мире важных событий не много. И не каждому человеку в вечной суете его, доведется до такого дожить, своими глазами увидеть и, возможно, переродиться во что-то большее. Все остальное так – бесчисленные горошинки нот, вокруг одной простой и совершенной мелодии.
Но чудеса здесь есть,
И волшебству есть место.
Лодочник взмахнул веслом, и лодка одним быстрым движением взмыла в небо. Наступило утро, прошел день и к вечеру в небе появилась звезда, которую увидели лишь те, кто любит звезды.
…
Легенды рождаются в полном одиночестве, в дремучей лесной чаще, где не с кем поговорить, где некому поведать об увиденном – о том, что так поразило воображение, изворачивающееся от пугающей реальности, словно змей и заменяющее все причудливыми изгибами мифа.
А история? История все одна и та же – других не бывает – все они про то, как тяжело и страшно куда-то идти; про то, какие неодолимые опасности встречаются в этом странствии; и о том, как в самый тяжелый момент – момент полнейшей безысходности – вдруг приходит помощь и пробуждаются ранее спрятанные в неизведанной до того глубине силы.
Но знает, и всегда знала страшная Vulpecula, что не будет так, как она затеяла. И хоть бы вся нечисть лесная ревела, надрываясь от ненависти, кидая во все стороны аккорды злые, острые. И пускай стучат они в барабаны и рвут скрипкам кости – беснуется Vulpecula, шерсть дыбом, лапы в стороны – тянут, дикие в неистовстве своем виолончели, объеденные в бесновании лапы – кости одни остались – по жилам своим, орут натужно... кашляют трубы, хохочут контрабасы...
Нет.
Отступятся бесы. Запрячутся в болото. Дадут дорогу идущему.
Вот и небо очистилось. Взгляни, видишь звезду Anser? И кружит-кружит вокруг нее хоровод притаившихся ворогов.
- Сейчас, сейчас, братцы гуси, – говорит Баба-Яга, – потерпите еще немного; а у самой ноги подгибаются и сил на один шаг.
А вороги за свое – нельзя им пропустить гусей, никак нельзя! Взвыли, дернулись и давай скакать, но уже не пугая – не помогло устрашение – прямо на них, пастями зубастыми.
Вечность идти, не сбивая шаг
нельзя. Между шагами мрак,
чернота, запустенье... – так
говорят
те, чьи телеги, ноги, иль корабли
были на той стороне, или
почти дошли, не сумев оторвать от земли
вес пят.
Вечность желает, как труп застыть,
чтобы время крутилось вокруг, и жить
без движенья – стоять, а не плыть
в реке,
которая нас подхватывает и несет.
И в этой реке для людей все течет:
верность, любовь и прощенье блеснет
вдалеке.
https://www.youtube.com/watch?v=KNdOMcbuiiA&list=PL02Qx08mTLN32dhCfjAHxCYQ_276oPi-f&index=13
Невидимые кукольники свернули кулисы неба и открылась черная сцена театра.
«Ночь Рождества» – высветили звезды...
... и потянулись-потянулись невидимые ниточки, заставляющие созвездия двигаться: вот, по колено в снегу идут волхвы, навстречу мерцающему огоньку звезды Anser. Оглядывается на них хищная Vulpecula, клацает холодными зубами. А вот и Баба-Яга – семнадцать звезд, из которых семь – мешок с двумя гусями.
...
Она поначалу шептала неразборчиво, потом приноровилась и к шагу быстрому, и к мешку, стала говорить вполне понятно. Гуси – Станислав Каролевич да Иван Никитич, укачавшись за плечом у Яги, полусонно слушали:
- Ты закрываешь глаза с облегчением, что все кончилось. А открываешь с другой стороны мира. И оттуда мир совсем не таков. Солнце там словно притушили – тряпку грязную накинули. И выползает наружу вся скверна и гадость людская. Смотришь оттуда – страшно! – ходят привидения без лиц, с дырами в груди и злые-презлые... Каждый себе на уме. А ум-то как ножичек наточен – себе кусок пользы из каждого вокруг вырезать. И режут-режут друг друга, улыбаясь и прикрывая свои замыслы то вышитым платочком милостыни, то рваной хламидой нищеты, то еще чем – горазды хитрецы на выдумку! Один жалеется, что его Бог обидел, другой, что сирота он безродная, и ждет, чтобы вовремя ножичком резануть и отхватить живой человеченки. Потому и страшные все такие, калеченные.
Гуси завздыхали. И цыгана золотозубого припомнили и лицедеев давешних. Все вроде сходится. Права Баба-Яга, есть ей вера.
- Тот мир, – продолжала Яга, – навроде катакомб со стенами толстого мутного стекла. В самой катакомбе пусто – мало кому охота там надолго оставаться. А сквозь стены, прежняя, оставленная жизнь светится. Смотришь в стекло и видишь мертвечину смрадную... тут еще поразмыслить можно, кто кого мертвее. Мертвость, думаю, – это состояние души, а не тела. Вот так. Ходила я, принцы мои, бродила по той катакомбе, диву дивилась на то, как раньше ничего не знала, не понимала. А потом, на берегу тамошней реки, повстречала лодочника. Старый человек... точнее, дух, конечно же. С ним-то мы, поди, лет сто проговорили и о том и о сем. Это он меня убедил вернуться и понемногу людям поведать, что тут на самом деле происходит.
Иван Никитич от неудобства сидения в мешке кромешно задеревенел всеми конечностями. Двинулся неловко и придавил Станислава Каролевича. Начался за плечами у Яги переполох, и покуда она мешком тихонько об землю не стукнула в воспитательных целях, гуси не унимались. А как стукнула, то те сразу поумнели – устроились как-то и давай дальше слушать:
- А лодочник говорил так: «Знаешь старые сказки? – говорил – Вот-вот, то были времена, когда люди жили настоящую жизнь. А после – говорил – после прилетел из-за тридевять земель Змей-Горыныч – так его в народе прозвали, а всамделишно никто и не знает, что это за зверь был. Сжег он всех и вся своим полымем. И все-и вся тут же очутились у лодочника в лодке, значится. С тех самых пор – говорит – настоящей жизни в нас ни на грош – в лодке мы плывем, от прежнего бытия к новому». Так-то вот, братцы-принцы.
Гуси засоглашались, головами закивали. Но тихонько, чтобы не быть вновь о землю тюкнутыми.
- А мне лодочник вот что сказал: «Ты – сказал – теперь всю правду знаешь и ступай назад, из катакомбы в мир жить. Будешь – сказал – Баба-Яга. А оттого, что мертва была, прозовут тебя "Костяная нога". Но ты смирись. Гусей вот – сказал – найдешь, сразу мне неси, потому как нисколько это не гуси, а напротив – принцы в гусиной шкуре. Мы их назад обернем и все наладится». Ну... собственно, и весь сказ.
…
И музыка играет; только так – полупрозрачно и торжественно – не иначе может звучать небо. Vulpecula кидается на волхвов, и те бьются с ней сверкающими клинками, оставляя в глубине веков символы, читаемые звездочетами. «Звезды настолько вечные, насколько мы можем представить себе вечность – это их, звездочетов, слова – а вечность не вмешивается в движение, ей не нужны непоколебимые величины победителей».
Так будет всегда: звезда Anser, волхвы, Vulpecula и ожидание чуда. И каждый год мы опять создаем его усилием веры, и кто знает, может однажды кончится вечность и чудо распахнется над нами новым небом – близким и справедливым.
И мир забудет ложь,
как будто руки
теперь важней, чем нож,
чья острота царила в мыслях
тысячелетья. Остались муки
памяти, но в памяти нет смысла.
https://www.youtube.com/watch?v=vKUg_5T0fwk&list=PL02Qx08mTLN32dhCfjAHxCYQ_276oPi-f&index=9
Весь мир театр, да Уильям? – «...выходы, уходы, и каждый не одну играет роль». Да ничего подобного, удивляюсь, как тебе поверили! Весь мир – это рынок в Лиможске. Посмотри сам: актеры твои торгуют талантом, за талант получают деньги, а за деньги...
- Шалом, мальчики! – засмеялись актеры и показали гусям зловещую пантомиму, изображающую поедание жареных гусей голодными актерами.
- Станислав Каролевич... – озабоченно шепнул Иван Никитич, – это они не про нас ведь?
- Вынужден вас огорчить, мой друг, – Станислав Каролевич схватил самого наглого актеришку за палец и тот взвизгнул.
... за деньги можно купить все, Уильям, – и гусей, и любовь; в нем женщины, мужчины – все купцы, и каждый подороже хочет продать товар.
Сперва на грядках сердца
Иль души, растят плоды
Умений, знаний, красоты.
А после, в роли продавца,
За деньги отдают свои труды.
…
Но не тут-то было! Не на тех, как говорится, напали господа актеришки. Станислав Каролевич, цапнув палец, рассудил с безупречной точностью: «дальше будет хуже», – рассудил он и давай улепетывать. С телеги на землю, с земли на прилавки, с прилавков еще черт знает куда... еле-еле Иван Никитич за ним поспевал.
А крику-то! Визгу-то! Улюлюканья! Утомился рынок торговать. Людям, как известно, требуются зрелища, каковые, со всей любезностью, им были организованны двумя беглыми гусями – серым и белым.
- Ох, батюшки! – запричитала бабуся (откуда она взялась на рынке, одному Богу известно). – Мои-мои гуси! Люди добрые!
А что люди добрые? Уильям, я тебя спрашиваю. Наложить бы на тебя не только грим, за твои театральные рассуждения, но и епитимию наложить – отправить на рынок чистильщиком обуви, покуда не войдешь в ум.
- Держу-у-у! – заорал чистильщик обуви самым благим матом. – У-у-у... – продолжал он, укушенный Иваном Никитичем за нос. Не удержал, само собой. А за старание благодарности не бывает, посему, был сей персонаж осмеян и сию же минуту предан забвению, ибо гуси уже крутились на карусели.
- Как на карусели! Гуси? – удивлялись те, кто не видел.
- Они самые! – размахивая руками, рассказывали те, кто видел. – Шмуйле еще был. Так он, не понять: то ли кататься забесплатно устроился, то ли гуся ловил... короче, и смех и грех.
Бабуся бежит, люди бегут... – бардак-кавардак, чем и воспользовалась одна малопримечательная на внешний вид старушка.
- Так... да! – в платочке красном была, – вспоминал кто-то и очень волновался, вспоминая.
- Какой платочек?! (первый, услышав замечание, дернулся как вор, с поличным пойманный) В пальте бабка-то была, в пальте.
Околоточный все аккуратно записывал.
- Вы их не слушайте, господин полицейский, – отозвался третий, – брешут они. Ничего они ровным счетом не видели. Я видел. Меня спросите.
- Ну-с, голубчик, – околоточный повернулся к третьему, – слушаю.
- Я ту бабку сразу признал. Яга это была. Баба-Яга.
- От господи боже мой! – плюнул околоточный, осерчав; пошел с хозяевами-евреями переговорить: «Поди там без мистицизма управимся», – подумал.
А тем временем Баба-Яга действовала следующим образом: платочек и пальто скинула, за угол шмыгнула и спешно напялила невесть откуда взявшиеся тулуп и картуз – чуть-чуть осталось глаза отвести и ямщик-ямщиком по рынку идет – никакого сомнения. Ну тащит в заплечном мешке что-то... и пускай тащит, законом не возбраняется мешок тащить. А то, что мешок шевелится и гагакает, так мы уже упоминали про «глаза отвести»; Бабе-Яге это раз плюнуть-другой плюнуть – все, полный зрительный мрак!
https://www.youtube.com/watch?v=7aaHqxZ3pSo
Смотреть и слушать по ссылке - http://www.splayn.com/cgi-bin/show.pl?option=RecordInfo&user_id=44&record_id=4118
Прозорливый Иероним Босх уже это изображал: едет телега, в ней гуси – Иван Никитич и Станислав Каролевич (ну, хорошо, пусть чудовище с дудкой и сова – прозорливость имеет свои границы), гном Варвара, Самуэль Гольденберг со Шмуйлей и ваш покорный слуга (да не смотрите вы картинку... поверьте на слово); во главе процессии два вола – Лопа и Попа. Про рыб двуногих и прочую гадость Босх от скуки навыдумывал, и ни в какую преисподнюю все это не движется; на рынок едем, в Лиможск: евреи гусей продавать, гуси продаваться, Варварино ремесло всем известно – тибрить, а я за компанию, так сказать, процессиальным летописцем (пускай такое существует, не убудет ни с языка, ни со всеядных ведомственных реестров: процессиальный летописец – печать, роспись и скудное жалованье).
И кого, спрашивается, не хватает? Того, кого не хватает, Самуэль Гольденберг и Шмуйле начали бояться еще дома, когда отец говорил:
- Упаси Господь вам цыгана встретить!
И оба они трепетали. Ночами вскакивали с криком, как приснится им цыган вороватый, злой, с зубом золотым и в шапке лихо заломленной... – ой-вей!
Так оно и вышло: и зуб золотой на месте, и взгляд вороватый, и шапка заломлена. Только до сапогов фантазия не дотянулась – сапоги у цыгана были черные-черные, до блеску натертые дегтем и скрипу большого-пребольшого!
- Вол хрипит, а гусь гогочет, жид на рынок ехать хочет, – сходу заявил цыган и осклабился – зубом хвастанул.
Все промолчали и больше не оттого, что сказать нечего, а со страху.
- Гусь гогочет, вол хрипит, едет на телеге жид, – цыган немного перефразировал мысль и приподнялся на носочки: во-первых, посмотреть, что там в телеге, а во-вторых, большой сапожный скрип продемонстрировать.
Самуэль Гольденберг от переживаний потерял всю память... что-то отец говорил насчет цыгана, но кроме ужасного зуба из ночных кошмаров, ничего не припоминалось.
Два жида в телеге едут и везут гусей: ой-вей – ой-вей! – обрадовался цыган, увидав Ивана Никитича и Станислава Каролевича; им тоже зуб показал, чтоб знали с кем имеют дело.
«Да! – вспомнил Самуэль Гольденберг – цыгана словом не переговорить, наставлял отец: как встретишь его, доставай скрипку – цыгане до музыки повадливые».
Он толкнул локтем брата и показал глазами на футляр.
Цыган тем временем цыкал зубом и уже тянул лапищи, гусей пощупать.
То ли со страху, то ли отдавая отчет ситуации, мальчики заиграли так, как другой раз называют «кучеряво» – высоко-высоко, жалобно-жалобно... словно музыку в парикмахерской бигудями завили.
- Жид достанет свою скрипку, обдерет тебя как липку... – задумчиво сказал цыган; впрочем, руку остановил, не долез до гусей.
Достал из-за пазухи кларнет, продул холодный мундштук и вступил прямо поперек еврейских кучерявостей.
Тут уже и другие повозки стали догонять – много кто на рынок ехал. И давай люди всем народом с цыганско-еврейской склоки наслаждаться: «Давай! Давай! Обыграй его, Мойша! – кричат; а другие иначе – Ну-ко, Соломон, свали Будулая, хорош ему людей обкрадывать!».
- Раз карман, два карман, сумку расстегай-ко... Мойша-Мойша, ты болван – трям-тумбалалайка! – обиделся цыган и так зарычал в свой кларнет, что вороны с деревьев снялись.
Народ хохочет, цыгана поддразнивает, а мужики уж рукава закатывают – отлупить проныру; но тот ничего кругом себя не видит.
- Пейсами играет жид, он весь рынок рассмешит! – орет Будулай, размахивая кларнетом и приплясывая.
Но толку-то что? А ровным счетом ничего – народу вон сколько собралось! Теперь не то что телегу ограбить, теперь и живым попробуй уйти...
Как цыган опомнился, уже поздно было. Побили бедолагу, в снегу вываляли и прогнали прочь. А шапку свою, лихо заломленную, цыган потерял в суматохе.
Прав был отец про музыку, ой как прав!
https://www.youtube.com/watch?v=HIDspYuM_SA